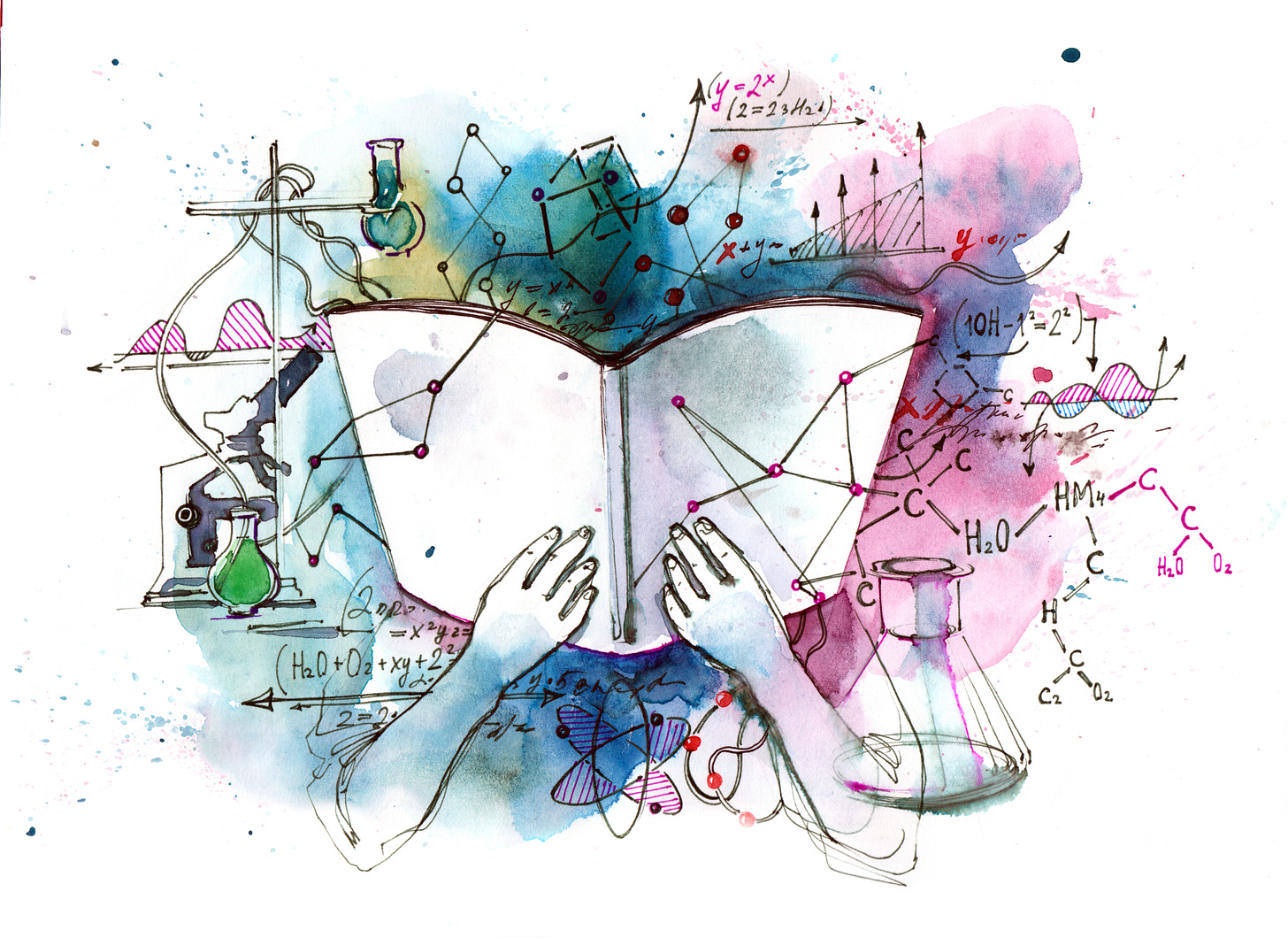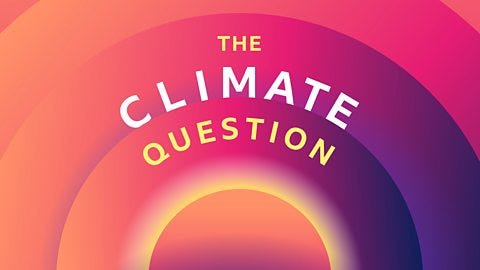Привет, это рассылка о научной журналистике в России и мире. Сегодня читаем манифест професси во времена ковида и смотрим, кто что сделал с Нобелевской премией (если знаете ещё хорошие тексты, оставляйте комментарии).
One big thing
Как сейчас помню, в августе 2014 года один из коллег-стипендиатов KSJ на вечеринке по случаю знакомства мимоходом, уже не помню, по какому поводу, сказал что-то в духе — ну, я лично пока не очень успешен и знаменит как научный журналист, а вот есть один такой Эд Йонг, за ним надо бы последить.
Я мало знаю о процессе найма приглашенных редакторов для книжки Best American Science and Nature Writing (например, когда принимаются эти решения), но Йонг в 2020 году получил золото AAAS Kavli Science Journalism Awards, а потом и Пулитцер 2021 года за объяснительную журналистику — best of both worlds, в общем, признание как своих, так и в «большой» журналистике, так что издатели книжки сделали выигрышную ставку.
Часть предисловия Йонга к книжке вышла отдельным текстом в Atlantic, за что, конечно, спасибо им всем. Мэрин Маккенна из Wired еще весной 2020 года назвала пандемию для научных журналистов командировкой на место катастрофического бедствия, из которой невозможно вернуться домой, — ну так вот спустя полтора года этой безумной командировки манифест для новой научной журналистики мне лично пришелся очень кстати.
In the light of the pandemic, old debates about whether science (and science writing) is political now seem small and antiquated. Science is undoubtedly political, whether scientists want it to be or not, because it is an inextricably human enterprise. It belongs to society. It is interleaved with society. It is of society.
Мои студенты хорошо знают, что мои взгляды на объект и предмет интереса научной журналистики внезапно близки позиции Йонга — только я, признаюсь, стеснялась всегда трактовать научную журналистику еще шире, максимально широко, как это делает он (science touches everything, and everything touches science). Ну, больше не буду стесняться, лауреат Пулитцеровской премии разрешил.
И, конечно, Йонг там пишет, как несчастных эпидемиологов, травмированных токсичной политикой вокруг ковида, утешают климатологи, измочаленные тридцатью годами (вы только представьте, что пандемия продлится до 2050 года) другого омникризиса, где наука неразрывно связана с политикой, экономикой и всей остальной жизнью. В этом месте все немногочисленные климатические журналисты хором сказали Йонгу — oh, honey. Добро пожаловать в наш мир в огне.
P.S. В 2011 году Карл Циммер — другой герой нашей эпохи, человек, астероид и ленточный червь — в программном интервью сказал про Йонга, что тот на ходу изобретает собственные правила и свой подход к научной журналистике. Десять лет спустя эти правила и этот подход, кажется, становятся мейнстримом. И не может не радовать, что часть этого мейнстрима — эмпатия.
One small thing
Когда этот текст о провале механизма COVAX вышел, я сначала хотела просто поставить его в «Что почитать» в рассылке как пример текста-аутопсии глобального проекта, который в России не очень хорошо известен не в последнюю очередь потому что Россия отказалась в нем участвовать.
Однако затем выяснилось, что у этого материала есть некоторый мелкий шрифт: вместе со STAT разбор проекта, плотно связанного с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, делало Бюро расследовательской журналистики (TBIJ), которое… тоже плотно связано с Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Ой.
Можно до посинения спорить, насколько участие фонда на самом деле помогло или помешало COVAX (в России, правда, особо не с кем, я думаю) и действительно ли его роль в тексте преуменьшена, но совершенно очевидно, что такой мощный финансовый конфликт интересов, если уж на него пошли, нужно было раскрывать при первом упоминании фонда. Однако нет (почитайте заодно весь тред):

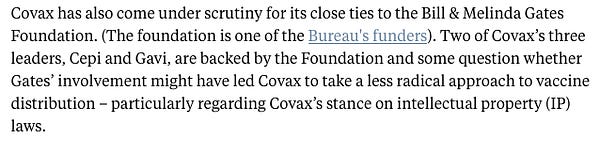
По другую сторону этой же проблемы, все сейчас хвалят Washington Post, которая основательно накатила бочку на Blue Origin, несмотря на то, что у газеты и космической компании один владелец. Мне вообще давно интересно, как WaPo справляется с тем, что она принадлежит ньюсмейкеру-тяжеловесу, о котором сама же пишет постоянно; вот хороший разбор этой ситуации в целом на Columbia Journalism Review.
Что происходит
Всемирная федерация научных журналистов и ВОЗ 27 октября проводят вебинар про редактирование генома человека для медицинских целей: в других новостях, кроме коронавируса, в середине июля о своей работе отчитался экспертный комитет ВОЗ по этой теме, созданный совсем немного после драки (в конце 2018 года, после новостей от Хэ Цзянькуя). На вебинаре можно будет поговорить с соавторами рекомендаций, регистрация здесь.
Что почитать
За время между рассылками случилась Нобелевская неделя, за которой я, к своему немалому облегчению, следила с трибун, хотя и отметилась экспертным комментарием и пятиминутным выступлением в утренней передаче. Вот здесь Полина Лосева для N+1 начинает текст про физиологию и медицину с Юма, «Медуза» достает из спикера фантастическую подробность (про то, что мы не знаем, как достижения лауреатов используются в промышленности), а вот здесь Nature задает экспертам насущный вопрос — почему не вакцины от коронавируса?
‘Reaching a detente’ with SARS-CoV-2: Helen Branswell on covering Covid-19, misinformation and more [STAT] — интервью Хелен Брансвелл из STAT, которая известна, помимо 20 лет в медицинской журналистике, тем, что 2 января 2020 года написала в Твиттере «Что-то не нравится мне это» про статью про события на уханьском рынке (как говорится, this aged extremely well). В частности, Брансвелл говорит, что полное искоренение коронавируса уже давно исключено — вопрос в том, когда он теперь станет сезонной неприятностью. Видео целиком доступно здесь.
Climate Journalism is Coming of Age [CJR] — в рубрике «белая зависть» создатели консорциума Covering Climate Now подводят первые итоги (консорциум появился в 2019 году) и рассуждают о том, что ещё нужно сделать, чтобы тема стала более видимой. Задача на 2022 год — заявить на их конкурс работы от России.
Что я натворила
На этой неделе наконец вышла радиопередача на глобальном Би-би-си, которой я занималась с середины августа, — это моя первая работа как радиокорреспондента, ит’c оффишиал, теперь не только тексты.
Правда, передача, ради которой я два с лишним часа рассказывала продюсерам о разнообразии климатической повестки в России, слетала в Красноярск и час записывала собственное интервью на ВДНХ рядом с метеостанцией, называется как?
Putin and the planet.
Напоследок
Во-первых, благодаря Александру Ершову я узнала, как правильно описывать свою профессию, чтобы передать весь уровень ее физического и психологического комфорта — «лошадь на велосипеде».
Во-вторых, сегодня начинается мой курс про инновационное обучение в Йоркском университете, так что в следующей рассылке вас ждет кусочек про образование научных журналистов.
До встречи!